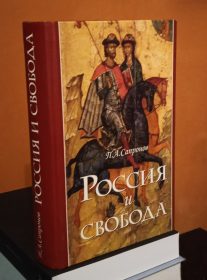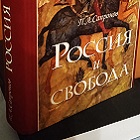Свобода в России
Программа Марины Лобановой
«Встреча»
Гость: Петр Александрович Сапронов, крупнейший отечественный культуролог, доктор наук, ректор Института богословия и философии, автор порядка 2 десятков монографий
Тема: свобода и Россия
Эфир: 10 сентября 2022 г.
АУДИО
Петр Сапронов:
…можно было бы сказать, что свобода в русских пределах осуществлялось в трехдольном ритме: от свободы Киевской Руси через патриархальное рабство Руси Московской к опять-таки свободе Петербургской России. Но тогда, чтобы отмеченный ритм выражал собой некоторый закон развития, пришлось бы признать петербургскую свободу более совершенной по сравнению с киевской свободой. Например, по критерию самосознания или самоудержания личности в своих поступках… Вот только приверженность триадическому ритму законосообразности сталкивает нас с реальностью слишком уж очевидной. Реальностью того, что более поздняя стадия свободы оказалась не итогом и завершением развития, не ее полнотой, а преддверием катастрофы, которая русскую свободу если и не отменила, не зачеркнула вовсе, раз и навсегда, то все же поставила под вопрос, разрешение которого не просматривается еще и сегодня.
К тому же и сам петербургский период ознаменовался не только возвращением свободы в русские пределы, но и трансформацией способа ее бытования…
В том отношении, что петербургская свобода – это реальность исключительно так называемых верхов, вначале одного дворянства, позднее – еще относительно немногочисленной образованной части населения Российской империи. В этом обстоятельстве самом по себе нет ничего странного и своеобразно русского. На Западе средневековом, и в значительной степени новоевропейском, свободы оставалась привилегией воинского сословия и, с гораздо большими ограничениями, бюргерства. Странность петербургской свободы в другом. Она вызревала и осуществлялась наряду с происходившим в XVIII веке и распространившимся на значительную часть XIX века разрастанием и углублением рабства огромного большинства россиян. Казалось бы, трансформация дворянства из государевых холопов в свободных людей должна была бы отразиться на крестьянстве как угодно, только не углублением крепостничества, не эволюцией его в сторону рабства. Между тем происходило именно так.
Дворянская свобода как будто набирала силы за счет отталкивания от подневольного крестьянства или расхождения с ним в противоположные стороны.
Ничего подобного в Киевской Руси обнаружить невозможно. Там княжеско-дружинная свобода далеко не совпадала с общинной свободой горожан и сельских жителей. Это были в значительной степени параллельно осуществлявшиеся свободы. Целое же Киевской Руси в результате, без всяких преувеличений и натяжек, можно обозначить как страну, где резко преобладала и была определяющей реальностью свобода.
Главная проблема Киевской Руси по части свободы – это ее неполнота и противоречивость, но никак не противостояние и несовместимость с тенденцией к рабству, что как раз характеризует Петербургскую Россию.
Но если это так, то говорить о каком-либо прогрессе или его подобии в отношении свободы применительно к Руси-России было бы слишком поспешно. Не прогресс здесь имело место, а некоторое шатание, которое с русской свободой все еще продолжается, не обещая и не гарантируя счастливого конца.
В стране восторжествовавшего большевизма со свободы дело обстояло не так просто и однозначно. Тоталитаризм свободу подавлял как мог. Но способен ли был подавить, и необходимо ли было ему полное ее подавление – вопрос, с которым еще нужно специально разбираться.
В качестве первого шага при рассмотрении этого вопроса я обращусь к тексту достаточно неожиданному ввиду того, что он к тоталитаризму прямого отношения не имеет, представляя собой некоторую самохарактеристику первого российского императора, содержащуюся в «Достопамятных повествованиях и речах Петра Великого», составленных его сподвижникам А.К.Нартовым.
«Петр Великий, беседуя в токарной с Брюсом и Остерманом, с жаром говорил им: «Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами как невольниками. Я повелеваю подданными, повиннующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох. Надлежит знать народ, как оным управлять. Усматривающий вред и придумывающий добро говорить может прямо мне без боязни. Свидетели тому вы. Полезное слушать рад я и от последнего подданного, руки, ноги и язык не скованы. Доступ до меня свободен, лишь бы только не отягчали меня бездельством и не отнимали бы времени напрасно, которого всякий час мне дорог. Недоброхоты и злодеи мои и отечеству не могут быть довольны, узда им закон. Тот свободен, кто не творит зла и послушен добру. Не сугублю рабства чрез то, когда желаю добра, ошурство упрямых исправляю, дубовые сердца хочу видеть мягкими. Когда переодеваю подданных в иное платье, завожу в войсках и в гражданстве порядок и приучаю к людскости – не жестокосердствую. Не тиранствую, когда правосудие обвиняет злодея на смерть».
Само по себе петровское высказывание знаменательно тем, что государь, чье царствование ассоциируется с чем угодно «великим и удивления достойным», но только не со свободой, тем не менее считает необходимым откреститься от обвинения в рабстве его подданных.
Еще совсем недавно, при отце Петра Великого и его старшем брате, разумелось само собой: русские цари повелевают рабами и холопами независимо от того, собственно ли это холоп или думный боярин. Так обстояло дело в принципе и в идее. Теперь, при Петре Великом, принципы и идеи другие. Понятие свободы, казалось бы, навсегда забытое, начинает укореняться в русскую жизнь. Но как видит Петр невиданную ранее свободу? Не более чем обрамленную послушанием закону. Законы, однако, исходят от государя и суть его личные указы. Что в них действительно от закона, а что произвол, решать это надлежит исключительно самому государю.
Здесь перед нами не чистое беззаконие, прикрытое пустыми фразами… но свобода, которую он предлагает своим подданным, очень ограничена… и ей очень легко соскользнуть в старомосковское рабство.
Тем не менее, это не фикция, а, скажем так, еще только начинающая разгораться заря русской новоевропейской свободы.
С ней стремительно покончил большевистский режим. Однако и для его вождей, как это ни покажется странным, приемлемым был бы ход петровской мысли, ее общая канва, по которой вожди вышивали свой узор. В частности, я укажу на исходившие сверху неизменно на протяжении десятилетий, однако все болеет тщетно звеня в пустоте, требования и призывы к трудящимся проявлять как можно полнее общественно-политическую и трудовую активность. О необходимости выработки в себе активной жизненной позиции на одном из последних съездов прошамкали уста преждевременно, но зато совершенно одряхлевшего вождя уже под занавес большевистского режима. Между тем, что такое социальная активность или активная жизненная позиция, если не та же самая свобода, пускай и совершенно выхолощенная и фиктивная? В социальной активности, и нельзя сказать, что совсем безуспешно, большевики стремились совместить несовместимое – инициативу, самодеятельность, ответственность и самую жесткую регламентированность и предзаданность. Когда в большевистской России привычно писали о трудовом подъеме и энтузиазме первых пятилеток, как не лживы были их описания, чистой выдумкой их не назовешь. Все эти стахановы, изотовы, ангелины, они ведь трудились не из-под палки, хотя палка и кое-что пострашнее всегда были для них наготове, но каким-то странным образом в зазоре между палками они действовали не без искренности, одушевления, самоутверждения. Какой-то потенциал свободы большевики все-таки задействовали, и это несмотря на то, что именно тогда, когда социальная активность не была чистой фикцией, большевистский режим был террористическим. Террор стал повседневной реальностью.
Террор неизбежен в любой революции… в России же, однако, террор с революцией не закончился. Самое же поразительное состояло даже не в этом, а в превентивном характере террора. Режиму представлялось совершенно недостаточным неустанно искать противников. В общем-то он вполне сознательно репрессировал сотни и сотни тысяч людей, которые были вполне лояльны ему. Большевистские вожди шарахались от собственной тени…
Поскольку нас непосредственно касается в этой так далеко зашедшей мании преследования именно свобода, то нужно отметить, что не она как таковая подавлялась большевистским режимом в первую очередь. Не со свободными людьми прежде всего боролся режим. Превентивный террор и репрессии должны были создать совершенно новый образ режима и непременного для него вождя.
Это должен был быть режим, ни за что перед гражданами страны не отвечающий, бесконечно в своей истинности и праведности вознесенный над теми, кто ему, режиму, неоплатно должен и неизбывно перед ним виновен. Не обязательно в преступлениях, а, скажем, в нерадении, расхлябанности, самоуспокоенности (большевистское словечко). Каждый гражданин товарищ должен был режиму непрерывно свое советское и большевистское достоинство доказывать и подтверждать. И подтверждали, искренне или неискренне, с энтузиазмом или вполне рутинно, за счет себя или кого-то другого.
Народ, граждане, товарищи должны расписываться в лояльности к режиму и общественному строю, но не наоборот.
Всякий намек на нелояльность режиму заведомо исключался. Неважно, насильственные или ненасильственные формы принимала нелояльность. Правила игры неизменно оставались таковы, что революцией исторический выбор сделан, никакому пересмотру он не подлежит. Власть же по-прежнему вправе требовать от граждан-товарищей непрерывного подтверждения своей лояльности. Террор и превентивные репрессии двадцатых-пятидесятых годов сделали свое дело. Никому уже не надо было объяснять всю грандиозность достоинств режима и недостоинства тех, кто при этом режиме живет.
И здесь нужно вернуться к этой странной и страшной корреляции между разгулом превентивного террора, с одной стороны, и относительно все-таки всегда высоким уровнем социальной активности, с другой. Активность начинает угасать вместе с репрессиями. Что последние были непосредственным источником активности – исключается. Активность чистой фикцией не была, а, стало быть, какой-то момент свободы в ней наличествовал. Но и террор, и репрессии происходили в стране с внятно и устойчиво выраженным моментом свободы. Разумеется, они прежде всего и в ее подлинных выражениях свободу подавляли. И вместе с тем способствовали не одному подавлению свободы, но и ее расцвету в формах сниженных и деградирующих.
Тот градус свободы, который, как бы невысок он ни был, для режима оказывался чрезмерен, репрессии значительно понижали, однако не до нулевой отметки. Остатков свободы было достаточно, и они были такого качества, что вполне подходили для их направления в русло «социальной активности».
Самая какая только может быть очевидная и, вместе с тем, незамечаемая в плане следующих из нее выводов реалия первых десятилетий большевистской России состояла в том, что она была большевистской страной главным образом на уровне режима. Властвовал же режим по преимущественно людьми Петербургской России.
Конечно, революция, гражданская война, эмиграция сильно поубавили слой русских европейцев, ослабили петербургскую выделку у тех, кого она коснулась частично или краем. И все-таки большевистская Россия сразу зачеркнуть Петербургскую Россию была не в состоянии. А это означает, что дух свободы вытравить целиком было невозможно, она была данностью, с которой приходилось считаться, к ней подлаживаться в попытке ее трансформировать.
Страна, где пускай самым резким и грубым образом подавляется свобода, все равно не станет страной рабов. Ограниченная и подавленная свобода остается таковой. Свободный человек и в тюрьме, и в оковах остается свободным человеком. Но таким, кому не дают жить свободно. Он может надломиться и распасться, стать рабом, но это будет полное крушение, смерть при жизни. Если такое произойдет со страной свободных людей – страна исчезнет, перестанет быть собой. Как бы она не была замордована и изуродована, при большевиках Россия не исчезла. Во всяком случае, в первые десятилетия режима.
Соответственно, и свобода, в той мере, в какой она в ней присутствовала, всячески подавлялась, не переходя в чистое небытие. Свидетельством этому служит, помимо прочего, установление тоталитарного режима в России. Именно тоталитаризм соотнесен со свободой как ее по возможности полное подавление. Он есть непрерывное отрицание свободы свободных людей.
Свобода, которая существует только в пределах приватности и не способна выйти за эти пределы, на самом деле находится в тайном согласии с несвободой
В своем противостоянии свободе тоталитаризм не только не в состоянии ее изжить, он еще и не может позволить себе такую роскошь, чтобы открыто бороться со свободой. Это вполне очевидно. Менее очевидно, что тоталитаризму свобода нужна в качестве некоторой питательной почвы, как клопу нужно тело, чтобы пить из него кровь. Тоталитарный режим может этого не сознавать и стремиться к полному изживанию свободы. Но это уже будет судорога растерянности и дезориентации. «Здоровому» тоталитаризму все-таки свойственны попытки не чистой аннигиляции свободы, а создания ее псевдоморфоз в духе нашей «социальной активности трудящихся». Ведь «социальная активность» снимает сам вопрос о свободе. Она переводит исконно западное измерение «свобода-рабство» в дихотомию «активность-пассивность». В отличие от свободы, направленность активности задается извне, тоталитарным режимом.
Большевистский, как, впрочем, и всякий другой, тоталитаризм, играя в свободу, сводя ее до мнимости, до иллюзии, все же не мог позволить себе прекратить игры со свободой. Подавлять свободу тоталитаризм может лишь становясь под ее знамена. Так, уничтожая деятельное и зажиточное крестьянство, большевики «освобождали» его от эксплуатации. Истребляя офицерский корпус – «ликвидировали заговор» с целью порабощения страны победившего социализма. И так далее. Наш отечественный тоталитаризм родом из большевизма, а большевики были крайне радикальной и необыкновенно последовательной в своем радикализме фракцией революционного движения, мыслили они себя – освободителями.
Представление о том, что общественность – реальность живая, человеческая и очеловеченная, в конце концов стало совершенно непонятным для советского человека. Когда-то, в первые десятилетия большевистского режима на собраниях, вообще в общественной деятельности, вполне нормальные и порядочные люди как с ума сходили: обличали, губили себе подобных… в некотором подобии священного безумия. Потом, в последние десятилетия, общественность старалась никого не трогать и не задевать. Эволюция, согласимся, отрадная. Для свободы, однако, не спасительная. Она оставляла теперь людей наедине с собой или в узком дружественном или семейном кругу. А это и означало, что свободным людям свободным народом и свободной страной была не стать и тогда, когда этому препятствует тоталитарный режим, и когда он рухнул.
Свобода, которая существует только в пределах приватности и не способна выйти за эти пределы, на самом деле находится в тайном согласии с несвободой и тоталитаризмом в том числе. Каждая из них уступает другой соответствующую сферу господства. Наличие свободы только в качестве приватной – не только знак поражения тоталитаризма, но также и свидетельство несостоятельности свободы. Ее потребности для своего существования в иной реальности. Когда свобода соотносит себя с божественной реальностью, эта соотнесенность низшего с высшим, производного со своим истоком. Наш случай совсем другой. Приватная свобода на российско-советский лад, конечно, не черпала свои силы из тоталитаризма, не питалась им. Связь тут другая.
Пожалуй, можно сказать, заведомо предполагая относительность сказанного, что для приватной свободы соотнесенность с тоталитаризмом подобна соотнесенности людей с демонами. Ссориться с последними заведомо бесполезно и погибельно, они суть сверхчеловеческая реальность, а если боги ушли и остались одни демоны, с ними тем более приходится считаться, выстраивать свою жизнь так, чтобы она упиралась в порог демонического, никогда не переступая его.
Жить людям остается тем, чего не трогают демоны. Когда же исчезли и они, то прежде принадлежавшее демонам никак не дается в руки людям или вынуждает их действовать на манер демонов.
Если же оставить в стороне всякие уподобления, то я обратил бы внимание на то, что приватная свобода это реальность бесконечно ускользающая и уклончивая. Ее не уловить никаким формам тоталитаризма, не растворить в себе, но зато приватная свобода и вполне бессильна на выходе во всякие формы общественности. Если она и соединяет людей, то исключительно личными связями. Поскольку же последние не могут быть единственными, то приватная свобода в духе большевистской России не только сосуществовала с несвободой, но и предполагала ее. Между ней и тоталитарным режимом установились связи взаимодополнительности.
Что в любом случае никогда не будет лишним в отношении русской свободы: изживание в себе представлений о ее «недействительности» для русской истории и культуры, о «неизбывном русском рабстве», бесправии, подавлении личности и т.п. Рассуждения о них (в противопоставлении так и несостоявшейся русской свободе) как раз и представляют собой один из симптомов и характеристик нашей свободы. Разве это не симптом, не знак особой представленности у нас свободы, когда мы так озабочены своим действительным, а гораздо чаще мнимым рабством? Будь Россия на самом деле «страной рабов» и рабства, последнее не воспринималось бы как проблема, угроза или приговор. Для России самообвинение в рабстве – это именно тема самооценки ею своей свободы. В последнюю и нужно вглядываться прежде всего, а не в рабство. Собственно, этому и была посвящена эта, вторая, передача.
Программа записана к 30-летию Института Богословия и Философии.
Сайт Института: ibif.ru
Страница Вконтакте: vk.com/spb_ibif
Прозвучала вторая часть.
Институт Богословия и Философии производит прием на курсы по программам дополнительного образования.
ТЕОЛОГИЯ (Христианское богословие в контексте русской и мировой культуры), двухгодичные курсы дополнительного образования. Программа курсов предполагает освоение богословских, философских и общегуманитарных дисциплин для тех, кто стремится приобрести образование в области православного богословия.
РУССКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, двухгодичные курсы дополнительного образования. Программа рассчитана на тех, кто имеет представление о русской культуре в её разнообразных проявлениях, и вместе с тем нуждается в их систематизации, в формировании целостного взгляда на русскую культуру. При этом акцент программы делается на том, что русская культура состоялась как православная в своих основах.
Спецкурсы:
РОССИЯ И СВОБОДА (П.А. Сапронов)
ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ (К.А. Махлак)
Занятия проходят два раза в неделю в вечернее время.
Возможно обучение по заочной форме по индивидуальному плану, в частности, в онлайн-режиме.
Запись на курсы
по телефону +7 (906) 240-60-36
WhatsApp 906 240-60-36
См. также:
Свобода: Запад и Россия. Ключевое сходство, ключевое различие
В программе «Встреча» на тему свободы беседуем с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым. Часть первая. Эфир 3 сентября 2022 г. АУДИО
Свобода: Запад и Россия
Что такое свобода? Продолжаем беседы с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым на «трудные темы» русской культуры. АНОНС
30 лет богословского образования для всех
В 2022 году 30-летие отмечает негосударственный и светский (не «только для священников») богословский образовательный центр в Петербурге. В программе «Встреча» – ректор Института Богословия и Философии культуролог Петр Сапронов. Эфир 6 августа 2022 г. АУДИО
Что такое культурология
Можно изучать историю, можно изучать искусство, можно осмелиться начать изучать богословие. Но все это довольно бессмысленно без изучения человека в культуре. В программе «Встреча» принимает участие известный культуролог, автор 20 книг, ректор Института богословия и философии, доктор наук Петр Александрович Сапронов. Эфир 15 августа 2020 г. АУДИО + ТЕКСТ
«Мы подготовили больше двух сотен богословов». К 25-летию Санкт-Петербургского Института богословия и философии — интервью с ректором
К 25-летию Санкт-Петербургского Института богословия и философии в нашем эфире вышло интервью с ректором – Петром Александровичем Сапроновым. Институт среди немногих отечественных центров гуманитарной науки стоял у истоков возрождения богословского образования в постсоветской России. 13 октября 2017 г. АУДИО
«Правда выше закона». Хлеб-соль русской экономики
От «пирожка» и «сковородочки» до «дорогой иномарки». Как устроена коррупция (зачеркнуто) экономика и судебное дело в Московской Руси. Программа «Архивная история». Павел Седов. Эфир 29 августа 2022 г. АУДИО
«Все должны быть активными»
Продолжаем чтение документов 1930-х годов, тема нескольких выпусков – доносы и партийные чистки. Но как именно выглядели эти документы? Читаем страницы из архивов партии и пытаемся понять, что двигало людьми, которые их написали. Выпуски программы Екатерины Чирковой «Ходим в архивы, читаем документы», посвященные этой теме, слушайте в сентябре и октябре 2018 г. АНОНС
Отец Александр Шмеман. 100 лет со дня рождения
Жизнь – это литургия, а не литургия – жизнь. В программе «Книжное обозрение» Марина Лобанова и преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак говорят о 100-летии протопресвитера Александра Шмемана. АУДИО
Власть, интеллигенция, политика. Культурология трудных вопросов русской жизни
Беседы с выдающимся современным культурологом Петром Сапроновым, посвященные «болевым точкам» русской общественной мысли, слушайте в программе Марины Лобановой «Встреча». АНОНС
Экклезиология. История православного учения о Церкви от Ветхого Завета до Нового времени
В цикле передач «Экклезиология» преподаватель Санкт-Петербургского Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак прослеживает развитие христианского представления о Церкви от Ветхого Завета до Нового времени
Беседы с создателем «Слова богослова»
Темы бесед, записанных летом 2019 года: богословское образование в Петербурге и в Кембридже; социальные аспекты самовосприятия православного человека в постсоветской России; богослов протоиерей Джон Бэр и его мысли о духовном рассуждении; Церковь и секуляризация; христианство и аристократизм
«Богословие – это такая наука, которая формирует человеческое отношение к жизни вообще»
Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) – о разных видах образования. Программа из архива радио «Град Петров». АУДИО + ТЕКСТ
Образование как взаимодействие. Через историю и культуру – к Библии – и обратно
В программе Марины Лобановой «Встреча» Андрей Десницкий рассказывает о сайте «Ваганты» – совместном с Асей Штейн образовательном проекте для взрослых и детей. Эфир 24 апреля 2021 г. АУДИО
«Были изумительные священники…»
«…отец Савва, офицер Лейб-гвардии Литовского полка, владыка Александр, Лейб-гвардии Егерского полка, владыка Роман, казак, есаул, отец Федор, Алексеевского полка, отец Стефан, Дроздовского полка, потом только штатский – отец Николай, профессор Богословского института…» Беседа с протопресвитером Владимиром Ягелло о его книге «Воспоминания. Два поколения русской эмиграции. 1920 – 2020»
История русского богословия
В нашем эфире уже много лет почти ежедневно звучит голос знаменитого богослова протопресвитера Александра Шмемана. А голос его соратника на ниве богословия и ближайшего друга протопресвитера Иоанна Мейендорфа вы услышите в этой уникальной архивной аудиозаписи. АУДИО
«Вера развивается в общении с другими членами Церкви»
Карл Христиан Фельми (диакон Василий) о своей книге «Введение в современное православное богословие», переведенной с немецкого. АУДИО + ТЕКСТ
Встреча с деканом Православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Чернокраком
Существует ли по сей день феномен «русского богословия», какой был в нач. XX в. В чем вклад русских богословов в православное богословие. Каковы перспективы богословского образования в современной России. Отличается ли православное богословское образование в России и в Европе. Что дает встреча Востока и Запада в сфере богословия. Каковы сегодня самые актуальные богословские задачи