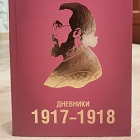«Мы хотим изменить ландшафт архивистики в России»
Программа Марины Лобановой
«Встреча»
Гость: Михаил Мельниченко, директор Центра «Прожито» при Европейском университете в Санкт-Петербурге, архивист Института изучения обороны и блокады Ленинграда
Тема: Центр «Прожито», Корпус дневников и Цифровой архив
Эфир: 15 февраля 2025 г.
Часть 2
АУДИО
«Мы очень хотим изменить ландшафт архивистики в России. Создать проект, который объединит владельцев домашних архивов. Мы создаём единый каталог домашних собраний документов, в котором могут быть не только дневники, но и всё, что в домашнем архиве можно найти. Мы делаем домашние архивы заметными и доступными» (1)
Михаил Мельниченко:
В прошлый раз вы говорили о том, что у огромного количества людей не осталось даже могилы и о них никто не помнит. Но есть странная особенность, что люди, попавшие в тяжёлые ситуации и прошедшие весь ад XX века, чаще лучше задокументированы, чем люди, жизнь которых сложилась более-менее нейтрально. Если ты, например, попал под каток репрессивной машины или если ты страдал и умер в Ленинграде в годы Блокады, то о тебе может сохраниться гораздо больше документов, чем о человеке, который это избежал. И вот для судебно-следственных дел, особенно судебно-следственных дел Большого террора… Вообще, «Государственная безопасность» стала, как кажется, главным антропологическим архивом Советского Союза. То есть в судебных делах есть вещи, которых больше нет нигде. Там есть истории простых людей… (в общем, всех людей, которые привлекались за антисоветскую агитацию, а таким человеком мог стать абсолютно любой) и особенно того слоя, который специально не рассматривался тогда ни историками, ни социологами, потому что социологии как таковой в Советском Союзе не существовало… Эти многие сотни тысяч дел и миллионы дел – это фактически огромный объём информации по истории советского общества.
…
В итоге сейчас мы знаем 65 дневников, вокруг которых следователь выстроил некоторую концепцию, ставшую причиной репрессии.
…
КГБ – главный антропологический архив Советского Союза
Мы сейчас готовим книгу про судебно-следственные дела. В идеале это мог бы быть трёхтомник, но мы сейчас, наверное, серьёзно занимаемся только довоенным материалом, Большим террором и раньше, потому что дальше начинается чуть сложнее история, за которую непонятно как сейчас браться.
И интересно то, что следователь работает с этими документами как фактически такой «литературовед» или как такой исследователь, который сначала читает дневник, делает в нём пометки (всего, что имеет отношение к «антисоветчине», по его мнению) и дальше пытается из этого выстроить образ человека, который заслуживает некоторого наказания. И цель нашей книги – показать именно вот следователя как «исследователя», во что он превращает то, что он читает.
Марина Лобанова:
То есть вы следователя тоже публикуете?
Михаил Мельниченко:
Следователь нас интересует ничуть не меньше, чем автор дневников.
Марина Лобанова:
А материалы к этой книге – они сейчас доступны на сайте «Прожито»?
Михаил Мельниченко:
Некоторая часть – да, некоторая часть из них загружена уже к нам на сайт. И там есть странные казусы, потому что часть из этих дневников, например, могут быть 1910 года. Потому что следователя не сильно волновало, что контрреволюционное настроение человек проявлял в дневниках 1910 года, он всё равно пришивал это к делу. В итоге первый том, который мы хотели посвятить Большому террору, он с 1910-х по 1940-е.
Следователь нас интересует ничуть не меньше, чем автор дневников. Наша цель – показать следователя как «исследователя», во что он превращает то, что он читает.
Марина Лобанова:
А период репрессий за дневники?
Михаил Мельниченко:
Дневник всегда мог прилипнуть к судебному делопроизводству в качестве свидетельства обвинения, но мы хорошо знаем какие-то дневники до середины пятидесятых годов. Вот последний дневник, который мы хорошо проработали, этот дневник Михаила Красильникова, такого неформального ленинградского поэта начала пятидесятых годов, который был посажен за то, что называется «пьяным акционизмом». То есть он на первомайской демонстрации с друзьями, когда кричали «Слава Владимиру Ленину» – и толпа вторила «Слава Владимиру Ленину», они вроде как закричали «Слава Михаилу Красильникову» – и толпа повторила «Слава Михаилу Красильникову». Он сел на 6 лет. И дневники его тоже оказались в Деле.
…
Мы знаем ещё несколько текстов, за которые сажали уже в позднесоветское время, но получить к ним доступ проблематично, потому что эти дела ещё на ведомственном хранении, в них невозможно попасть без разрешения родственников, а иногда даже и с разрешением родственников.
…
Есть в Москве историк Никита Петров, который уже много лет создаёт базу данных следователей государственной безопасности, и она каких-то немыслимых размеров, это многие-многие тысячи имён. И мои друзья, которые занимаются похожими сюжетами, они стали улавливать закономерности, что один и тот же следователь ведёт дела определённой направленности. И вот они выявили следователя, который работал в основном по филологам, и он работал в паре с таким совсем простаком, «колотушкой», и вот наш «интеллектуал» приходил, оценивал дело, можно ли из него сделать коллективное-перспективное, которое даст ему повышение по службе. Если да, он им занимался, если нет, то он передавал дело «колотушке», которой выбивал из них уже всё, что нужно… И то, что можно сопоставить сразу большое количество дел через имя следователя – это очень интересно, это рассказ о том, как устроен террор.
…
Дневник всегда мог прилипнуть к судебному делопроизводству в качестве свидетельства обвинения.
Марина Лобанова:
Не только дневники. Про «Цифровой архив» расскажите подробнее, на какой вы стадии развития этого проекта и для чего этот проект.
Михаил Мельниченко:
Мы столкнулись с тем, что нам самим тесно в рамках чисто дневникового проекта, и что люди, которые с нами готовы работать, семьи, в которых хранятся домашние архивы, они, во-первых, хотят публиковать больший объём… то есть они готовы нам передавать больший объём интересных документов, во-вторых, они сами хотят больше участвовать в жизни этих документов. Не контролировать, а понимать, насколько они востребованы, общаться с людьми, которые с этими документами хотят работать.
…
Мы приняли решение, что мы начинаем разрабатывать цифровую площадку общественной архивистики, в которой любое домашнее собрание могло бы быть каким-то образом представлено. То есть вы можете заполнить у нас анкету на свой домашний архив, рассказать о том, какие в нём есть документы, и договориться с нами о том, что мы какую-то часть из этих документов или весь архив целиком хотим увидеть у нас на сайте и дать к нему доступ.
…
Пока у нас несколько десятков домашних собраний и больше двух тысяч документов: дневники, письма, открытки, фотографии… Всё хорошо описано, у всего и сканированная копия, у чего-то есть и текст, всё это соединено людьми, то есть для каждого упоминаемого лица, каждого автора и адресата есть заведённая карточка, на которой можно посмотреть все документы из всех архивов, которые к нему имеют отношение. Как всегда, в таких русских базах данных вперёд выбиваются Ленин, Сталин и Пушкин, это «три самых упоминаемых человека в русской культуре»…
Марина Лобанова:
То есть это сеть частных семейных архивов, которые вот так вот рассказали о том, что они существуют. А что такое архив? Может быть, у кого-то есть архив, но он об этом «не знает».
Михаил Мельниченко:
Мы утверждаем, что практически всё есть архив…
Мы начинаем разрабатывать цифровую площадку общественной архивистики.
Марина Лобанова:
Мне всегда хотелось узнать, сколько же волонтёров у Центра «Прожито».
Михаил Мельниченко:
Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что за 10 лет у нас их было около 1700. Но я давно не писал отчёты и поэтому не подводил статистику. И примерно столько же или больше у нас было студентов-практикантов, которые уже много лет проходят у нас удалённую практику. … Один студент – это одна расшифрованная тетрадь. Правда, студент – он менее мотивирован, чем волонтёр.
…
А вот сейчас пришёл удивительный совершенно документ, сложнейший и интереснейший. Мой друг нашёл самый старый дневник, который физически попал к нам в Центр. Это дневник анонимного жителя Васильевского острова, он вёлся с 1819 по 1821 год. Это довольно сухие записи, автор лютеранин, скорее всего, немец.
…
В разделе «Цифровой архив» на сайте «Прожито», например, можно найти домашний архив Татьяны Слепухиной, это маленький блокадный архив, он помещается в одну тоненькую полиэтиленовую сумочку, это несколько писем с фронта, которые любящий отец писал маленькой девочке, шестилетней, по-моему, в блокадный Ленинград, с рисунками… И можно посмотреть как это выглядит.
Марина Лобанова:
Как вы называете людей, которые становятся участниками проекта «Цифровой архив»?
Михаил Мельниченко:
Мы называем их «кураторы домашних собраний».
…
У меня была мечта… Мы не можем сохранить все архивы, которые сейчас выбрасываются, и даже те, о которых мы знаем, то есть нам говорят, что вот сейчас выбрасывают 100 кг собрания документов… У нас была идея, что мы можем сделать распределённый архив. Что есть сообщество людей, которым мы говорим о том, что сейчас выбрасываются документы, и они берут их себе, и мы только курируем такое взаимодействие. Мы сейчас это не можем запустить, но это одна из наших «мечт голубых».
См. также:
«Прожито»: 10 тысяч дневников за 10 лет
В 2025 году проекту «Прожито» исполняется 10 лет. В программе Марины Лобановой «Встреча» Михаил Мельниченко рассказывает историю и последние новости «Прожито». Часть 1. Эфир 8 февраля 2025 г. АУДИО
Репрессированные майцы
В 2025 году Музею истории школы Карла Мая исполняется 30 лет. Его создатель и руководитель Никита Благово рассказывает, как репрессии коснулись выпускников одной из лучших гимназий дореволюционной России. Эфир 22 февраля и 1 марта 2025 г. АУДИО
Американский священник на русском Соборе. Дневники революционных лет
В программе «Книжное обозрение» Александр Мраморнов рассказывает про издание дневников одного из членов Поместного Собора 1917-1918 годов протоиерея Леонида Туркевича. Эфир 23 февраля 2025 г. АУДИО
Достоевский адекватно Достоевскому
«35 лет назад у нас началось изучение Достоевского в соответствии с авторским замыслом». В программе Марины Лобановой «Встреча» филолог Татьяна Касаткина рассказывает о современной достоевистике. Эфир 8 марта 2025 г. АУДИО
Кого можно уничтожить?
«Бывшая дворянка», революционный матрос, белый офицер. Даниил Петров предлагает слушателям провести альтернативную, общественную «экспертизу ценности» архивных личных дел 1920-х годов, которые в наше время решено уничтожить. Эфир 9 декабря 2021 г. АУДИО
«Мне удалось найти цитату, подслушанную политруком в 1940-м году у моей бабушки»
В программе «Новости Сервиса скачиваний» Даниил Петров объясняет, является ли цикл радиопередач «Родословные детективы» аудиоверсией одноименной книги с подзаголовком «Пособие по установлению и сохранению истории семьи и Отечества». Эфир 22 мая 2021 г. АУДИО
История государства — да. История человека — нет
Уничтожение личных дел в современной России — практика геноцида семейной памяти. Государство согласно платить только за историю партий и правительств, а историю конкретных людей — «измельчить методом шредирования». Юрист и генеалог Даниил Петров рассказывает о новостях архивов. Эфир 19 сентября 2020 г. АУДИО
Тайны советских архивов и семейные загадки. Методы расследования родословных детективов
Лекция Даниила Петрова, автора цикла передач на тему родословных поисков «Возвращение к семейным истокам»
Архив – кладовая истории. О нашей новой программе «Ходим в архивы. Читаем документы»
Программа Александра Ратникова «Обратная связь» рассказывает о премьере в нашем эфире – цикле программ Екатерины Чирковой «Ходим в архивы. Читаем документы». Эфир 1 февраля 2018 г. АУДИО
Эрмитажные истории: винный погреб в революцию, императорская яхта в блокаду
Эрмитаж: не только о вещах, но и о людях. В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» Анна Конивец продолжает рассказывать про серию книг «250 историй про Эрмитаж». Эфир 3 и 10 сентября 2023 г. АУДИО
Похоронить через 100 лет
100 лет без права на могилу. Репортаж Марины Лобановой о захоронении расстрелянных у стен Петропавловской крепости жертв красного террора. Эфир 28 ноября 2022 г. АУДИО + ФОТО