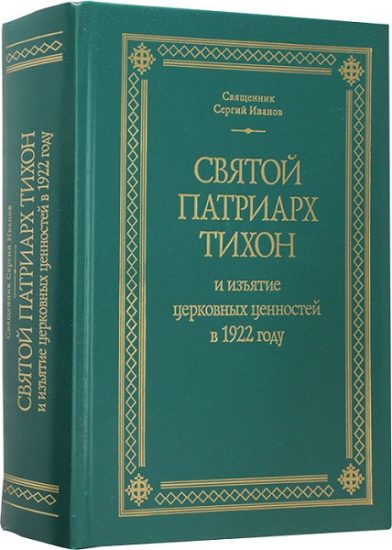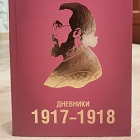Цена советской экономики. К биографии святого патриарха Тихона
Программа Марины Лобановой
«Книжное обозрение»
Гость: священник Сергий Иванов, кандидат философских наук, кандидат богословия, научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ
Тема: книга «Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году». Часть 1
Эфир: 20 апреля 2025 г.
АУДИО
Марина Лобанова:
Ваша книга – это действительно огромный вклад в историю Церкви и в историю патриарха Тихона, в понимание его личности. До сих пор историки спорят, какова же была его позиция по поводу отношений Церкви с советской властью и советским государством. Изъятие церковных ценностей – наверное, это самый острый период, когда патриарху Тихону пришлось определяться в этом вопросе. Я в выступлениях даже церковных историков то и дело встречаю, что кто-то оценивает патриарха Тихона как символ неприятия верующими вмешательства государства в дела Церкви, а кто-то, с точностью до наоборот, считает его продолжателем синодальной традиции встроенности Церкви в государство. Удалось ли вам как-то скорректировать представления исторического сообщества?
Священник Сергий Иванов:
Да, действительно, это тема непростая, потому что условия ее рассмотрения, особенно советского периода, это всё было связано с таким нагромождением огромного количества советской пропаганды, с одной стороны, с другой стороны, есть проблема фрагментарного цитирования источников со стороны научного сообщества. Могу сказать как священнослужитель, что без помощи Божией я бы точно эту книгу не написал, она явно превышала мои силы, работа над ней была растянута на много лет…
…
Важно заметить, что общий аргумент против патриарха (и государственных обвинителей, и раскольников, и даже части духовенства) состоял в указании на неправильное каноническое обоснование содержащейся в его Послании от 22 февраля 1922 года оценки декрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей (оценки как святотатства). Что говорили критики патриарха? Государственный обвинитель в революционном трибунале говорил, что церковное имущество по новым законам принадлежит государству, святотатство в церковном понимании – это воровство, но власть не может красть своё, а значит – святотатства никакого нет. Это дополняли раскольники, которые провели требуемую советскому суду так называемую «церковную экспертизу» (в кавычках) патриаршего послания и «установили», что по канонам добровольно отдать священные сосуды на помощь голодным можно, а значит патриарх снова не прав в своей позиции. И это я упомянул только «логические» аргументы, а что касается эмоциональной травли патриарха, которая в советской прессе была очень развёрнуто представлена… одни только наименования патриарха – «варваром», «кощеем», «бандитам в рясе»… Перечислять можно бесконечно.
…
Мы должны услышать контраргументы святителя Тихона, они базировались на церковном законодательстве. В соответствии с ним имущество храмов принадлежит Церкви, и по канонам изъятие священных сосудов без согласования с патриархом, кем бы оно ни производилось, остаётся святотатством. И патриарх прямо в трибунале об этом говорит.
…
Что касается вопросов о возможности согласия патриарха добровольно отдать священные сосуды, то он подтвердил в трибунале, что да, такое право есть. Почему же, имея такую власть, патриарх не отдал священные сосуды? Дело в том, что патриарх не верил советской власти. И его недоверие, мы об этом еще скажем, подтвердилось. То есть он был прав в самом глубоком основании своей позиции. И в трибунале он ответил, что за такого рода шаги он отвечает перед судом Церкви. А ведь он стоял перед судом советским. Это было очень интересно: он постоянно подчеркивал свою ответственность перед судом Церкви и ставил его на первое место.
…
Можно сказать, что корректив мнений историков о решениях патриарха Тихона существует. Но большей частью он связан с освобождением от лживых нагромождений в интерпретации его позиции. Неточные представления о позиции патриарха в вопросе отношения Церкви и государства, безусловно, существуют. Я могу только приводить примеры сейчас, постараюсь много их не приводить, но только для того, чтобы вы понимали, насколько это проблемное поле, по которому пришлось идти. Например, в 1992 году вышел сборник «Административно-командная система управления. Проблемы и факты» со статьей Д.Л.Кондрашова «К вопросу о создании чрезвычайных органов», причем он освещал тему на материале Центральной комиссии Помгол при ВЦИК. И вот он говорит (со ссылкой на «Известия ВЦИК» от 15 марта), что те благотворительные меры в виде сдачи церковного лома, на которые Церковь сочла возможным пойти для помощи голодающим, «даже по свидетельству самого патриарха», пишет Кондрашов, не могли дать ощутимого результата, «а для государства естественно было не делать для Церкви каких-то исключений в то время, когда использовались все государственные ресурсы». Ну вот это большое заблуждение – так говорить. Во-первых, государство использовало не все ресурсы, оно зарезервировало огромное количество драгоценных металлов (на 150 миллионов золотых рублей) в разгар голода. Зарезервировало для других нужд, а именно – под советскую денежную реформу. И эти металлы пролежали мертвым грузом в течение всего периода борьбы с голодом. Но самое главное то, что мы берём эту газету «Известия ВЦИК» и читаем эту беседу с патриархом, на которую ссылается Кондрашов как на источник, и видим, что патриарху историк приписал ложное мнение. А в этой беседе патриарх Тихон публично предупредил организаторов кампании по изъятию церковных ценностей об имевшихся у них иллюзиях. А что он сказал? Он сказал, что вот вы задумали изъять церковные ценности, а на практике ваша мера не даст ожидаемого результата при всём благожелательном отношении к делу помощи голодающим со стороны церковных общин, потому что ценностей мало. Вы хотите пограбить Церковь, вы думаете, там богатство несметное, но вы ошибаетесь. И это подтвердилось на практике.
…
В популярных очерках А.Левитина и В.Шаврова («Очерки по истории русской церковной смуты») – там прямо говорится: в условиях кампании по изъятию церковных ценностей патриарх был неправ. Я спрошу: а в чём же он не прав?
Есть очень известные, авторитетные историки, такие, как, например, священник Димитрий Сафонов, который выпустил книгу о патриархе Тихоне «Святитель Тихон, Патриарх Московский и Всея России, и его время». Прекрасная книга, на материалах архива ФСБ, просто великолепная. Но в интерпретациях этих фактов требуется корректив. Например, отец Димитрий писал, что патриарх Тихон на допросе от 11 января 1923 года признал, что изъятие церковных ценностей не является святотатством. Но вот мы берём протокол и читаем, читаем внимательно, и видим, что такого признания там нет. А было другое: патриарх указал, что не является святотатством выдача церковного имущества власти для употребления ею этих священных предметов на дела милосердия. То есть в чем тут разница? В том, что изъятие – это насилие. И более того, патриарх добавил (к тому, что допустима только добровольная выдача, а насилие – нет), что и употребление должно быть – на дела милосердия, а не на какие-либо иные нужды. А как мы знаем сегодня, употребление церковных ценностей на дела милосердия отсутствовало, его не было.
Вот ещё один пример: в книге «Допрос патриарха» писатель А.Нежный посчитал, что «слишком просто сделать вид, будто вся полнота Церкви была заодно с патриархом или что он своим посланием не поставил себя, клир и мирян под беспощадный удар власти… Разве не знал Святейший, что его Послание может поднять народ на защиту изымаемых из храмов святынь? А власть на любую попытку сопротивления сразу же ответит страшным насилием?» Но мы должны помнить: защита святынь была предусмотрена постановлениями Поместного Собора. А участие христиан в государственных акциях ограбления храмов определено как несовместимое с принадлежностью Православной Церкви. Было даже специальное постановление Собора об охране церковных святынь от кощунственного захвата и поругания.
Кроме того, материалы патриарших допросов говорят о том, что в своем Послании, где он характеризовал декрет ВЦИК святотатством, он преследовал мирные цели, он призывал отстаивать святыни с помощью легальных и законных методов, без кровопролития, поскольку к нему просто не может призывать глава христианской Церкви, что очевидно для всех.
…
Марина Лобанова:
Еще одна тема книги – а на что были потрачены изъятые у Церкви ценности. Об этом поговорим во второй части нашей беседы.
Священник Сергий Иванов:
Это, пожалуй, такой фундамент, это главный исторический контекст, на фоне которого я уже пишу о патриархе и его позиции. И я могу немного рассказать, как я постепенно приходил к этой линии… Вот я иду и думаю: изъять ценности – тут же экономический момент есть, это же финансы. А где на эту тему исследования? Гуманитарии – они цифры не любят, им нужны красивые выводы, яркие. И в этом вопросе, который вы сейчас обозначили, господствующей гипотезой, многими принятой, был взгляд профессора Николая Покровского, уважаемого ученого, который внёс (вместе со своим соратником Станиславом Петровым) очень большой вклад в эту тему. А его позиция была очень красивая. Он взял документ, в соответствии с которым церковные ценности оценивались на 4 с лишним миллиона золотых рублей, потом, соответственно, нашел смету на изъятие на 1 месяц – в 1,5 миллиона золотых рублей, потом, поскольку кампания по изъятию шла месяца три точно, может, чуть дольше, он всё это умножил… И стоимость организации самой кампании по изъятию перекрыла стоимость изъятых ценностей. А поскольку кампания была одновременно и разгромом Церкви, то у него такой вышел вывод: изъяли ценности и полученные средства пустили на то, чтобы разгромить Церковь. Впечатляющий вывод, конечно. Могу сказать, что частично он оправдан, но всё-таки это не совсем так. Потому что ценностей было изъято не на 4,5 миллиона, а побольше. А вот смета на проведение кампании – как раз на сумму поменьше. Потому что выдавали в советских рублях, а там девальвация шла каждый день, и эта сумма так ужалась, что ни о каких 1,5 миллионах говорить не приходится, огромное обесценение денег шло с высокой скоростью.
См. также:
Русский церковный раскол XVII века в зеркале мудрости древнегреческого законодателя Солона
«Люди второй половины XVII века в Московском государстве были поставлены перед нелёгким выбором». В программе «Архивная история» Павел Седов рассказывает о своей книге «Государевы богомольцы». Эфир 31 марта 2025 г. АУДИО
Достоевский адекватно Достоевскому
«35 лет назад у нас началось изучение Достоевского в соответствии с авторским замыслом». В программе Марины Лобановой «Встреча» филолог Татьяна Касаткина рассказывает о современной достоевистике. Эфир 8 марта 2025 г. АУДИО
«Мы хотим изменить ландшафт архивистики в России»
В 2025 году проекту «Прожито» исполняется 10 лет. В программе Марины Лобановой «Встреча» Михаил Мельниченко рассказывает историю и последние новости «Прожито». Часть 2. Эфир 15 февраля 2025 г. АУДИО
«Прожито»: 10 тысяч дневников за 10 лет
В 2025 году проекту «Прожито» исполняется 10 лет. В программе Марины Лобановой «Встреча» Михаил Мельниченко рассказывает историю и последние новости «Прожито». Часть 1. Эфир 8 февраля 2025 г. АУДИО
Репрессированные майцы
В 2025 году Музею истории школы Карла Мая исполняется 30 лет. Его создатель и руководитель Никита Благово рассказывает, как репрессии коснулись выпускников одной из лучших гимназий дореволюционной России. Эфир 22 февраля и 1 марта 2025 г. АУДИО
Американский священник на русском Соборе. Дневники революционных лет
В программе «Книжное обозрение» Александр Мраморнов рассказывает про издание дневников одного из членов Поместного Собора 1917-1918 годов протоиерея Леонида Туркевича. Эфир 23 февраля 2025 г. АУДИО
«На скамье подсудимых – вся православная Россия»
Были ли гонители церкви искренни? Свидетельства современников. «Всегда начеку, всегда в борьбе с врагом… потому что нет у него того оружия, которым может располагать его враг – оружия знания». Обсуждаем с историками Иваном Петровым и Никитой Гольцовым влияние внешних факторов на церковную жизнь
Причины голода в Поволжье
С окончанием гражданской войны в России начался страшный голод. Обсуждаем с историками Иваном Петровым и Никитой Гольцовым влияние внешних факторов на церковную жизнь
«И тут им открыли глаза: это не для помощи голодающим»
Голод, церковные ценности, расстрел митрополита… Могла ли Церковь избежать гонений? Программа «Возвращение в Петербург» рассказывает о мученике Юрии Новицком