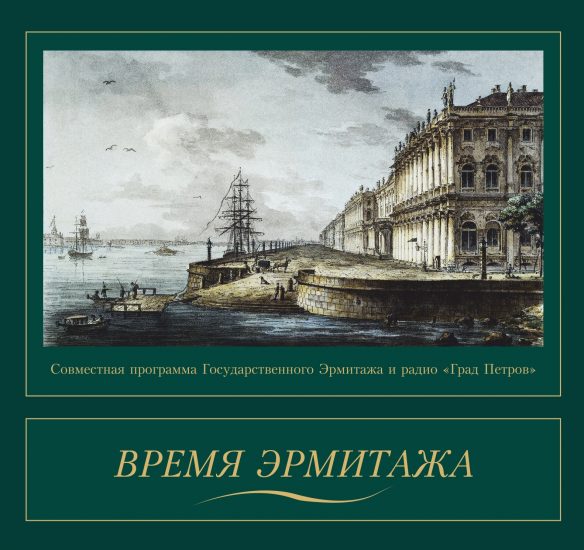Что скрывается за горизонтом? В программе «Словарь» о слове «горизонт» размышляют искусствовед Ольга Махо и философ Марина Михайлова.

В программе «Словарь» о слове «горизонт» размышляют искусствовед Ольга Махо и философ Марина Михайлова.
ТЕКСТ
М.Михайлова: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами радио «Град Петров», программа «Словарь» и ее ведущая Марина Михайлова. Мы с вами добрались уже до второго дня творения, когда Господь отделил воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Таким образом появились в мире верх и низ, небо и земля, и появилась граница между ними, которая в русском языке называется словом «горизонт». Об этом необыкновенно интересном слове мы сегодня будем говорить с Ольгой Георгиевной Махо, кандидатом искусствоведения, ведущим научным сотрудником Эрмитажа. Здравствуйте, Ольга Георгиевна.
О.Махо: Добрый вечер.
М.Михайлова: Ну что же, мы сегодня с Вами будем говорить о горизонте. Что такое горизонт в живописи?
О.Махо: Собственно, «горизонт», если идти от самого слова – это граница, и граница, которая разделяет мир земной и небесный, или же разделяет небо и землю. И эта граница всегда является не просто границей, а еще и некоторой линией, дающей определенные ориентиры: что вверху, что внизу, что более значительно, что менее значительно. При этом совсем не обязательно совпадает этот верх и низ, эта значительность и малозначимость.
М.Михайлова: Прежде всего, горизонт – это некая граница, которая и разделяет земное и небесное, и в то же время для нас как для созерцателей горизонта это все-таки место, где соединяется небо и земля. Что испытывает человек, который смотрит на линию горизонта в море или в поле, в каком-то открытом пространстве? Нам кажется: там-то, наконец, и произойдет эта встреча верхнего мира и нижнего, земного и небесного.
О.Махо: Наверное, здесь есть еще несколько разных обстоятельств. С одной стороны, человек, который просто смотрит, смотрит совсем не просто, и видит не только то, что он думает. Он думает немножко одно, а видит, вероятно, немножко другое. Здесь тоже надо разделить отчасти то, что происходит, скажем, в живописи, и то, что происходит на нашем бытовом уровне, на бытовом совсем не обязательно в каком-то низменном смысле этого слова, а в самом хорошем смысле этого слова, имея в виду просто нашу реальную жизнь. Горизонт и появляется в живописи, прежде всего западно-европейской, эпохи Возрождения, когда человек начинает после античности через довольно большой промежуток времени пытаться обрести некие рационалистические начала в отношении оценки мира и себя в этом мире. И горизонт становится одним из ориентиров, помогающих разобраться, что есть что и где оно находится.
М.Михайлова: То есть это результат какого-то аналитического рационального подхода, само появление линии горизонта в живописи, да?
О.Махо: Да, очевидно, само появление линии горизонта связано с существенными изменениями и в понимании мира, и понимании прежде всего человека в этом мире, и связано с необходимостью поставить человека в определенную позицию в этом мире, именно человека, не священного персонажа, как это было в иконописи Средних Веков как в восточной традиции, так и западной традиции. Новая система, не уходя, скажем, от религиозных начал и от христианских корней европейской культуры Нового времени, пытается нечто добавить к этому или преобразовать это через какие-то новые рационалистически организованные способы понимания.
М.Михайлова: Это вопрос, который на самом деле меня всегда очень занимал: насколько искусство влияет на наше видение мира? Я приведу простой пример. Это немножко не про горизонт, но тем не менее: когда мы проезжаем быстро, скажем, на электричке мимо каких-нибудь полей цветущих, смотришь на них и говоришь: «Это Клод Моне», и ничего другого в голову уже не приходит. После того, как он написал свои поля в Живерни, мы не можем видеть иначе тот мир, который нас окружает. Он дал нам некоторую парадигму видения. Точно так же, я не большой специалист по истории живописи, но мне кажется, что античная живопись еще не знает этого, скажем, проведения границы между небом и землей. Сама граница была, но люди ее не видели. Можно так сказать или нет? Получается, что художники совершают некоторое открытие и вменяют нам свое видение мира.
О.Махо: Что касается античной живописи, здесь есть несколько моментов. Прежде всего, мы очень мало знаем античную живопись как таковую, потому что ее дошло не так много…
М.Михайлова: Да-да, портреты в основном.
О.Махо: …И то, что дошло, это в значительной степени не греческая живопись, а римская, не ранняя, а относительно более поздняя. Тем не менее, можно судить о том, что для античной живописи горизонт, очевидно, существовал, но существовал в некотором смысле не так, может быть, строго организованно, как это получается уже в европейской живописи, начиная с эпохи Возрождения. Горизонт – одна из составляющих той системы мировосприятия, которая отображается в перспективном построении мира. И само понятие «перспектива» в значительной степени в сегодняшнем нашем понимании ориентировано на то, что происходит именно начиная с эпохи Возрождения, с начала XV века, когда возникает классическая линейная перспектива.
М.Михайлова: То есть человек становится в центре?
О.Махо: В этом смысле линия горизонта становится границей между небом и землей, становится в определенном смысле и ориентиром в глубину этого пространства. И если вообще учитывать, что итальянская живопись, итальянское изобразительное искусство эпохи Возрождения стремилось обрести некую идеальную гармоничную картину мира, то представление о горизонте как находящемся в середине продиктовано в значительной степени именно стремлением обрести эту идеальную гармонию. И перспективное построение, безусловно, опирается на математическое изучение того, что мы видим. Но на протяжении очень долгого времени можно, наверное, говорить о том, что бытовало в некотором смысле заблуждение, что именно такая четкая и ясно организованная перспектива – это то, как мы видим мир, и что сама перспектива как система живописная рождается из глубокой потребности показать все как есть. И как Вы говорите о том, что, проезжая мимо цветущих лугов, видишь, что это Клод Моне, так на бытовом опять же уровне очень часто в обыденном сознании, действительно, возникает ощущение, что вот тогда, когда есть линия горизонта, а желательно она посередине, тогда, когда все четко и ясно к этому горизонту уходит, это и есть то, что мы видим на самом деле. И перспектива предполагает эти линии схода, которые соединяются в одной точке, и в идеале она на середине, на линии горизонта. Хотя совсем не обязательно так.
М.Михайлова: На середине: на середине листа, грубо говоря? На середине пространства видимого, обозримого?
О.Махо: Живописного, да, пространства живописи. На середине – и по вертикали, и по горизонтали, в самом-самом центре. Если это будет так, то вот тогда будет абсолютная гармония. Но ведь по большому счету мы так не видим, мы не можем так видеть, и не может быть одной единой точки схода прежде всего, по элементарной причине: у нас два глаза, а не один…
М.Михайлова: Да, а кроме того, мы движемся.
О.Махо: …И это совмещается, не говоря даже о том, что мы движемся, это само собой. Но даже если мы стоим неподвижно, то, закрывая поочередно один глаз и другой глаз, мы будем иметь все время меняющуюся картину мира. А если мы головой еще чуть-чуть пошевелим, даже не сходя с места, то эта картина будет еще более меняться. Так что горизонт не был незыблемым, даже если говорить о поре классической перспективы. Он перемещался, и перемещение линии горизонта – это тоже чрезвычайно важная и очень интересная проблема, которая существует в живописи, и не только в живописи.
М.Михайлова: Ольга Георгиевна, на самом деле мы с Вами затронули одну очень важную проблему, которая может быть осмыслена не только с точки зрения искусствоведения или обыденного опыта, но и философски, и богословски тоже. А именно, речь идет о том, что рациональная конструкция мира, рациональное миропонимание, которое, начиная со школьных лет, окружено для нас ореолом научной достоверности, истинности и так далее, на самом деле есть не что иное, как одна из возможных конструкций. Как Вы говорите, мы не можем принять это как абсолютную истину, а можем это понимать только как одну из возможных моделей мира, потому что в чем-то это отражает наше видение и устройство нашего зрения, а в чем-то совершенно и нет. Что за картина мира стоит за этим, как Вы думаете? Что скрывается за горизонтом, скажем так?
О.Махо: Что скрывается за горизонтом, наверное, живописи, так же как и нам, до конца понять не дано, потому что в любом случае то, что мы имеем в живописи, мы видим глазом и только глазом, и все то, что мы же думаем по этому поводу и чувствуем в связи с этим, а уж тем более, что мы пытаемся сказать – это все будет какой-то интерпретацией, всякий раз обладающей значительной мерой относительности. И в этом смысле как раз та самая перспектива, которая оперирует горизонтом как одной из очень важных составляющих, безусловно, инструмент, чрезвычайно разнообразно использовавшийся художниками на протяжении исключительно долгого времени. Разные эпохи дают разные отношения к горизонту в его большей определенности, меньшей определенности, но в первую очередь, конечно, это соотношение, стремление понять место человека, героя, и этим героем в эпоху Возрождения являются по большей части персонажи Священной истории. Именно через них и через их положение в системе мироздания трактуется, вернее, пытается быть осмысленным положение человека в мире вообще.
М.Михайлова: И где же находятся эти герои в пространстве, скажем, живописи итальянского Возрождения?
О.Махо: Для итальянской живописи эпохи Возрождения в значительной степени характерна точка зрения снизу вверх, di sotto in succo, как говорили итальянцы. Здесь, конечно, персонаж, который именно возвышается над горизонтом, поднимается над этим горизонтом, становится героем значительным, монументальным, грандиозным в самых разнообразных смыслах этого слова. Не только в буквальном, физическом смысле, но за этим физическим величием и часто просто, так сказать, грандиозностью буквальной, потому что живопись итальянского Возрождения знает чрезвычайно масштабные произведения просто в смысле размеров их даже, – за этим встает, конечно, стремление осмыслить, понять и убедить прежде всего самого себя и своего зрителя в этом величии героя. Чем может быть продиктовано это стремление убедить в величии? Может быть, подсознательным ощущением, что этого величия и недостает отчасти.
М.Михайлова: Тогда получается, что это некая внутренняя компенсация этого переживания шаткости, утраченности каких-то оснований в мире? Это удивительно, потому что давно, когда мы учились в школе, обычно эпоху Возрождения объясняли через отказ от христианства и возврат к античным основаниям миропонимания. Как я понимаю, в современной науке от этого уже отказались давно, и Возрождение понимается все-таки как один из этапов в развитии христианской культуры и христианской мысли?
О.Махо: Собственно, антихристианского в эпоху Возрождения было очень мало, чтобы не сказать…
М.Михайлова: Ничего.
О.Махо: …Практически ничего. Просто изменение картины мира связано с существенной трансформацией самой религиозности. Это изменение религиозности как раз в значительной степени начинается не в эпоху Возрождения, а в эпоху зрелого и позднего Средневековья, когда человек начинает чувствовать себя в мире не просто крошечной песчинкой, заброшенной в море сплошных страданий, искушений и бесконечных невзгод, которые он должен пройти, преодолеть с минимальными потерями, чтобы обрести затем блаженство после смерти. Начинается – и в Италии тоже, но, скажем, в Северной Европе это в большей степени очевидно – изменение самой религиозности. Она начинает опираться на представление о том, что мир создан по Божественному промыслу и, наверное, та идея, которая была вложена в создание мира, вряд ли была дурной, и, наверное, здесь повсюду рассеяны частицы Божественной мудрости и красоты, которые, собственно, и начинают все в большей и большей степени заполнять произведения мастеров уже готического искусства. А если говорить об Италии, есть такая концепия диалога: возникает некий диалог между христианством и античностью, той самой античностью, которая иногда представляется таким врагом христианской системы. Из этого рождается в определенном смысле некоторый синтез, который пытается быть органичным, наверное, в наибольшей степени в эпоху Возрождения, как ни парадоксально с некоторой точки зрения это звучит, когда кажется, что действительно это попытка обретения нового языка, который потом, в XVII-XVIII веке, становится все более зрелым и доформулированным, так сказать, до конца найденным. Но может быть, как раз в этом не шатком, но живом балансе самой эпохи Возрождения была чрезвычайная продуктивность. И не случайно к традиции эпохи Возрождения так или иначе обращались во все последующие времена, и эта традиция, так же как и античная традиция, так же как и средневековая классическая традиция, оказывается неисчерпаемой в определенном смысле.
М.Михайлова: Во всех смыслах, наверное, потому что там есть, действительно, множество плодов, которые мы можем до сих пор…
О.Махо: Не хочется оказаться человеком, занимающим позицию изобразительного центризма, но если мы говорим об изобразительном искусстве, может быть, в большей степени, чем тогда, когда мы имеем дело со словом, эта несформулированность в слове, выраженность только в зрительных образах, и делает как раз живопись, скульптуру и архитектуру эпохи Возрождения тем, что остается предметом размышлений и дает возможность чрезвычайно разнообразного обретения собственного опыта в размышлениях, когда любой из нас сегодня сталкивается с тем или иным произведением. Конечно, очень не хочется обидеть литературу, но именно отсутствие слов делает предмет нашего разговора, с одной стороны, как будто бы более объективным, а с другой стороны – менее определенным.
М.Михайлова: Я понимаю, что Вы имеете в виду. Ольга Георгиевна, то, что мы с Вами говорили о горизонте как о точке схода верха и низа, о том, что он появляется в эпоху Возрождения как отчетливый концепт теории живописи, – мне кажется, в этом есть некоторое соответствие тому богословскому осмыслению роли человека, которое появляется тоже в эпоху Возрождения. Тогда человек действительно занимает место посредине мира, и не в том смысле, что наступает эпоха антропоцентризма и забыты все фундаментальные христианские ценности. Возникает понимание того, что именно через человека осуществляется само понимание Божественного замысла, что человек – это та самая точка посередине мира, как сказал один русский поэт: Я – человек. Я посредине мира. За мною мириады инфузорий, Передо мною мириады звезд. Человек как удивительное существо, равно принадлежащее и земле, и небу, миру материальному, плотному, тяжелому, и миру духовному. Вот это и есть, наверное, одно из открытий Ренессанса, которое нам еще предстоит, может быть, осмыслить, – это уникальное, прекрасное, рискованное и действительно очень равновесное место человека в мироздании.
О.Махо: Собственно, еще в средние века появился такой жанр богословский, литературный, как «Речь о достоинстве человека». И это достоинство человека определялось разными мыслителями по-разному. Когда речь идет об эпохе Возрождения, едва ли не всякий раз цитируется Джованни Батиста Пико делла Мирандола, который, не буквально, может быть, цитируя, строит свою речь о достоинстве человека как диалог между Богом и Адамом, где Бог говорит Адаму: «Я создал тебя не смертным, не бессмертным, не земным, не небесным, чтобы ты, свободный мастер, создал себя по собственному замыслу». И, собственно, человек в этом трактате Пико делла Мирандолы становится на это место центральное еще и в другом немножко смысле, что вспоминается, может быть, реже: когда к нему обращаются слова о том, что создан человек для того, «чтобы был некто, кто бы смог оценить сложность проделанной мной работы», говорит Создатель. Это роль человека, поставленного в центр мироздания и призванного судить для того, чтобы понять, и для того, чтобы обрести себя.
М.Михайлова: Радоваться и восхищаться этой красотой кто еще может, если не человек?
О.Махо: Собственно, особые качества – эта способность понять и необходимость обрести себя самого. Это то, чего никому другому не дано. И в этом отношении, конечно, есть такое понятие – «перед человеком открываются широкие горизонты».
М.Михайлова: Да-да.
О.Махо: Эти широкие горизонты, которые открываются, представляются как некий грандиозный мир, и если попытаться представить себе, что это такое, каковы они, то, наверное, эти широкие горизонты могут открыться перед человеком, который смотрит на мир с довольно высокой точки зрения. И эта высокая точка зрения в этом выражении возникла тогда, когда не было ни самолетов, ни высотных зданий, но вместе с тем можно вспомнить, что, размышляя, Петрарка, например, первый гуманист, один из первых мыслителей именно Ренессансных уже, поднимается на гору. Очевидно, эта потребность открыть широкие горизонты сокрыта где-то глубоко внутри человека, стремящегося понять и обрести себя.
М.Михайлова: Между прочим, в том же самом трактате Пико делла Мирандолы есть вполне определенные цитаты из Василия Великого. Когда он говорит об этом истинном предназначении человека, о том, что человек – это существо, которое – я, может быть, неточно процитирую, но он говорит: «Ты можешь жить, как животное, но ты можешь стать равным Богу». Это абсолютно святоотеческое богословие.
О.Махо: Там очень много… Есть специальные исследования, которые доказывают, что трактат Пико делла Мирандолы очень основательно опирается на богословскую традицию, и тут нет ничего экстраординарного. Вместе с тем Пико делла Мирандола как раз один из тех мыслителей, которые стремились чрезвычайно расширить, если вот в этом переносном смысле говорить, горизонты. Собственно, то же обращение к античности было попыткой расширить, выйти за пределы традиционного для предшествующего времени представления о мире, добавить к нему еще нечто расширяющее возможности осмысления и понимания. Не случайно тот же Пико изучает древнееврейский и Каббалу, и он чрезвычайно многое пытается обрести как раз в этом соединении самых разнообразных традиций и систем миропонимания.
О.Махо: Собственно, если мы с одной стороны часто воспринимаем живопись эпохи Возрождения как то, что стремится быть как можно более близким к реальности и к отображению действительности такой, какая она есть, вместе с тем, глядя на произведения очень многих художников эпохи Возрождения, мы не можем не отдавать себе отчета в том, что их пейзажи в их произведениях в достаточной степени условны. В этом условном пейзаже один из постоянно повторяющихся мотивов – гора в глубине линии горизонта и дорога, поднимающаяся по этой горе. Этот путь вверх и обретение этого пути – это очень важно. Если мы говорим о горизонте, эпоха Возрождения тесно связана с тем, что было до нее, с чисто, сугубо христианским, классически христианским, средневековым миропониманием. Но если мы обратимся к совершенно другой живописи, если мы обратимся к Матиссу, к одной из самых знаменитых работ Матисса «Танец» и «Музыка», которая сейчас хранится в Эрмитаже, то, с одной стороны, это произведение часто на зрителя, интересующегося искусством, но не очень задумывающегося над тем, что его здесь интересует или не интересует, на такого непосредственного зрителя производит впечатление совершенно ошеломляющее за счет той простоты, которая, кажется, здесь есть. Возникает ощущение: «Ну, как же, это может любой!»
М.Михайлова: Детский рисунок, наивная живопись.
О.Махо: Да, это такая позиция: «Мой ребенок рисует так же!» Но с другой стороны, не говоря о многих других вещах, которые есть внутри этой системы Матисса, если мы сегодня говорим о горизонте, то ведь там, собственно, есть синее, зеленое и красное – небо, земля и человек. Человек этого удивительного цвета, который был очень точно однажды сопоставлен с цветом, если говорить об античности, красной…
М.Михайлова: Красной глины.
О.Махо: Глины, в античной керамике.
М.Михайлова: Адам и есть глиняный человек.
О.Махо: Да. И тут очень много разных возникает вещей. Что, собственно, эта граница между небом и землей, какая она у Матисса? И в одном и в другом случае это некая гора. Но в силу разности тех систем, которые присутствуют в «Танце» и «Музыке», в силу разности того, что выражает одна и вторая композиция, вместе обретающие гармонию диалектической цельности, в «Танце» это гора, которая энергично вздымается в середине, а в «Музыке» это мягкий, спокойный, пологий склон. И персонажи, которые находятся на горе, с этой границей между небом и землей соотносятся в каждом случае по-своему.
М.Михайлова: Да, и вступают, конечно, в какие-то отношения. Это тоже, кстати, удивительно, потому что у Матисса в этой работе очень даже видно, насколько мир зависит от человека. Мы привыкли думать, что человек зависит от мира, от атмосферного давления, не знаю от чего… А здесь получается ровно наоборот: сама картина мира, даже конфигурация горизонта зависит от того внутреннего состояния, духовного, в котором находится человек. Мы как бы воздействуем на Вселенную.
О.Махо: Это совершенно неразрывно существующие вещи, и отрыв всегда порочен, он всегда оказывается тупиком. Только во взаимодействии, вероятно, может быть смысл и может быть какое-то истинное, настоящее понимание. В этом отношении, конечно, горизонт как граница и как ориентир и сама жизнь этого горизонта может быть разной, безусловно, из-за соотношения между героем и миром, в отношении горизонта определяющегося.
М.Михайлова: Да. Вот еще о чем все-таки хотелось бы сказать несколько слов: об отсутствии горизонта в пространстве иконы. Ведь это тоже момент, который очень важен, потому что икона не дает нам, сколько я понимаю, никогда, если речь идет не о живописи религиозной, а именно об иконе, она никогда не дает нам линию горизонта. Сегодня я с одним знакомым батюшкой об этом говорила, и он сказал мне: «Это потому, что икона есть совмещение неба и земли». Икона – это всегда рассказ о едином пространстве священного события, и поэтому там эта встреча неба и земли уже состоялась, эта граница схода уже преодолена. Как Вам эта точка зрения покажется?
О.Махо: Собственно, икона в любом случае не изображает, а создает образ. И в этом отношении само слово икона…
М.Михайлова: «Образ» и есть.
О.Махо: …И есть. И здесь не может быть некоего разделения мира, даже, наверное, когда идет речь скажем об изображении «Сошествия во ад». Конечно, там есть некая граница, но в любом случае это пространство того особого мира, в котором разворачивается все действие целиком. И те или иные элементы, мотивы, конкретно связанные с реальностью, которые присутствуют в иконе, скажем, в том же изображении «Троицы» некие предметы на столе…
М.Михайлова: Да, чаша.
О.Махо: …Это тоже не столько реальный предмет, сколько некий образ всегда. В эпоху позднего средневековья в значительной степени этот все более и более возрастающий интерес, заинтересованность в земном в значительной степени начинается с того, о чем я уже говорила, с ощущения, что повсюду разлиты частицы Божественной мудрости и красоты. Существенно распространение, скажем, мистических разного рода учений и тенденций. Ведь в значительной степени мистический опыт – это опыт индивидуальной религиозности, не столько соборной, но индивидуальной. Мистическое – это часто переживание собственного религиозного опыта, наполняющее особым смыслом некие предметы, которые становятся концентрацией особой духовности. И именно с этого в существенной степени начинается, скажем, в изобразительном искусстве появление многих мотивов, которые мы воспринимаем как совершенно живые и реальные. Множество цветов, которые появляются, цветы, которые заполняют лужайку – это, как правило, те цветы, каждый из которых по крайнем мере на начальном этапе имеет некий символический смысл.
М.Михайлова: Близкий даже к аллегорическому, пока еще однозначное соотнесение с некоторыми реальностями, нет?
О.Махо: В начале да, а дальше этих смыслов делается больше. Дальше, по мере того как расширяется этот горизонт разнообразного опыта, на один и тот же предмет накладываются разные смыслы, скажем, когда один из них может быть связан с христианской символикой, а другой может быть связан с античной символикой, и в некоторых случаях они могут казаться близкими, а иногда не очень. Иногда они могут оказаться совсем разными.
М.Михайлова: Одна из задач нашего словарного проекта и состоит в том, чтобы увидеть вещь – поскольку все-таки слова языка обозначают некоторые вещи, процессы, явления – как манифестацию божественного присутствия, ту самую мудрость и красоту, о которой Вы говорите, обнаружить в разных предметах и явлениях и увидеть их наполненность этой причастностью к небу. Одно из открытий живописи как искусства, как мне кажется, и заключается в том, что нам открывается «тихая жизнь», как натюрморт называется «still-life», «тихая жизнь», молчащая жизнь, которая, действительно, существует во всех вещах. Мне кажется, художник как раз и замечателен тем, что он умеет это видеть. То, что другие люди, может быть, переживают как-то функционально, он переживает таинственно. Даже если он не называет это мистическим опытом, все равно взгляд живописца и опыт искусства изобразительного – это опыт открытия тайны, сокрытой во всем.
О.Махо: Действительно, это то искусство, тот способ говорить, который оказывается бессловесным и в этом смысле, действительно, в чем-то, может быть, несколько более широким, чем в других случаях, когда все вещи названы своими именами.
М.Михайлова: Да, потому что слово ведь ограничивает, оно все-таки ставит точные рамки, хотя поэты и умеют пользоваться словами так, чтобы наш словарь невероятно расширить и развернуть. Тем не менее, живопись – это говорение на языке многих-многих смыслов, смыслов неарткулируемых, но существующих. Когда мы смотрим на какие-нибудь яблоки Сезанна, то мы понимаем: вот она, «тихая жизнь», она с нами говорит, и это сообщение совершенно отчетливо. Другое дело, что переформулировать его на язык понятий мы не можем, но мы его воспринимаем, тем не менее.
О.Махо: Наверное, в нашей отечественной традиции, для которой слово всегда было чрезвычайно важно, попытки найти некоторые адекватные словесные воплощения зримых образов и даже попытаться обрести некое понимание того незримого, что за этим зримым стоит, может быть, особенно напряженно-интенсивные. Хотя, конечно, каждая, наверное, культура имеет свои наиболее сильные стороны, и в этом отношении такого количества поэтов, писателей, как в России, на некоторых этапах, во всяком случае, может быть, мы не везде найдем…
М.Михайлова: «Золотой век», «Серебряный век». Ну что же, у нас остается одна минуточка, и мне хотелось бы вернуться к тому, о чем мы уже говорили, к тому, что невозможно заглянуть за горизонт, мы не знаем, что находится за линией горизонта. Я тут вспомнила замечательную детскую книгу «Хроники Нарнии» Льюиса, где происходит путешествие на край земли. Когда герой, герои добираются до края земли, они заглядывают за горизонт и видят там такую дивную картину: они видят, что океан, блестящий, светлый, прозрачный, кристальной ясности океан переливается через эту самую границу горизонта и обрушивается в сияющую бездну. Как я понимаю, это прозрачная метафора соединения наконец мира тварного с Творцом. Поэтому мы не можем заглянуть за горизонт, но мы можем надеяться, во всяком случае, что за горизонтом нас ждет большая радость.
О.Махо: Во всяком случае, горизонт все время заставляет нас об этом думать.
М.Михайлова: Да. И это самое прекрасное. Никто, ничто не вдохновляет нас так, как вот эта таинственная линия горизонта. Ну что же, я Вас благодарю, Ольга Георгиевна, за участие в нашей передаче. До свидания.
О.Махо: Всего доброго.
Понравилась статья? Поделись с друзьями.

Два возраста Боттичелли
Программа Екатерины Степановой «Время Эрмитажа» рассказывает о выставке двух изображений Богоматери «Умиление», созданных в XV веке – картины Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» и греческой иконы «Элеуса». Выставка действует до 16 февраля. Эфир 25 января 2020 г. АУДИО + ТЕКСТ + ФОТО

«Превзойти натуру»
Его фрески в Ватикане впоследствии были сбиты, чтобы освободить место для росписей Рафаэля. У нас есть уникальная возможность увидеть то, что заставит задуматься – не зря ли… Программа Екатерины Степановой «Время Эрмитажа» рассказывает о выставке «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи». Эфир 23 февраля и 2 марта 2019 г. АУДИО + ТЕКСТ + ФОТО

Приглашаем в Эрмитаж
В небольшом приложении к программе «Время Эрмитажа» Екатерина Степанова знакомит вас с последними новостями музея. Репортаж 31 мая 2018 г. АУДИО